А.С.ПУШКИН И СОВРЕМЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ

Доклад члена-корреспондента Елены РОМОДАНОВСКОЙ и д.ф.н. Михаила ДАРВИНА
на торжественном юбилейном заседании СО РАН, посвященном 200-летию
со дня рождения А.С.Пушкина
В юбилейные дни говорить о Пушкине -- и ответственно, и очень
трудно. Трудно прежде всего потому, что именем Пушкина наполнена
сейчас вся пресса и почти невозможно сказать что-либо абсолютно
новое, не говорившееся ранее.
Ответственность же определяется прежде всего тем, что все,
связанное с юбилеем Пушкина, давно уже перестало быть просто
данью памяти, подтверждением неизменного почитания и любви к
одному из величайших людей двух последних столетий.
Масштаб пушкинского юбилея -- это масштаб события
общенационального, которое теперь, как и сто лет назад,
переживается нами как событие мировое, далеко выходящее за
пределы одного только художественного творчества. Вспомним
известные слова А.И. Герцена: "на призыв Петра цивилизоваться
Россия ответила явлением Пушкина", или слова Ф.М. Достоевского о
"всемирной отзывчивости" гения Пушкина.
Юбилейное слово о Пушкине, как и вообще о юбиляре, всегда
содержит в себе опасность, с одной стороны, наведения
"хрестоматийного глянца", с другой -- идеологизации самого
Пушкина, когда высказывание о нем, вольно или невольно, как бы
"надстраивается" над ним, превращаясь в выражение
мировоззренческой позиции чествующего. Такую "идеологическую"
опасность в контексте юбилейных высказываний о Пушкине в связи с
90-летием его гибели в 1927 году остро почувствовал П.М.Бицилли,
который в эмиграции писал в статье "О юбилеях", лишь
недавно опубликованной: любое публичное чествование -- это
чествование "Неизвестного солдата", "на которого, именно как на
"неизвестного", можно переносить какие угодно национальные
добродетели и с которым можно связывать какие угодно национальные
традиции". Сказано точно, и это предупреждение особенно важно
помнить сейчас, когда мы отчетливо осознаем, что Пушкин сегодня
стал для нас важнейшим культурно-историческим символом России.
Именно поэтому мы решили сегодня не говорить обо всех возможных
его добродетелях, а остановиться на том, что изучение и чтение
Пушкина дает нашему гуманитарному знанию -- как специалистам, так
и рядовым читателям.
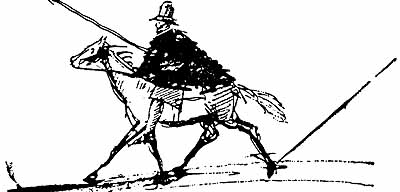
|
Ситуация вокруг Пушкина всегда складывалась парадоксально. Как в
XIX, так и в XX веке постоянно ощущается внутреннее
противостояние Пушкина официально признанного -- и Пушкина,
любимого оппозиционной интеллигенцией, Пушкина элитарного -- и
Пушкина обыденного, Пушкина филологов -- и Пушкина масскультуры:
официальные власти признавали избранного Пушкина, оппозиция
предпочитала другую его часть, элитарная литература стремилась
подчеркнуть высокую духовность его творчества, низы сочиняли о
нем анекдоты, филология изучала Пушкина, масскультура его любила
и всячески пропагандировала, используя достижения всей высокой
культуры. Метафорические выражения, когда-то примененные поэтами
-- "Пушкин наше все" (Аполлон Григорьев) и "мой Пушкин" (Марина
Цветаева) -- в масскультуре давно стали расхожими штампами, без
которых обходится лишь редкая газетная публикация, и переломить
эти штампы -- дело практически безнадежное. Между тем в этом
можно увидеть и положительные черты: именно широкий, подлинно
общенародный интерес к Пушкину в сочетании с местом, отведенным
ему официозной пропагандой, немало способствовали как развитию
нашей исторической и литературоведческой науки, так и
распространению настоящих гуманитарных знаний среди широкого
круга читателей.
Парадоксальность -- и в специальных трудах о Пушкине. В ХХ веке
Пушкина много и хорошо изучали, но на его исходе, накануне
заветного двухсотлетия заговорили о явно ощутимом "разрыве между
изучением и пониманием" -- о дефиците нашего понимания Пушкина
при столь обширном, детальном его изучении.
Здесь стоит вспомнить, что некогда, на другом конце столетия, при
начале нашего золотого пушкиноведения, замечательный филолог Лев
Васильевич Пумпянский описывал ситуацию вокруг Пушкина примерно в
тех же категориях, но оценивал ее противоположным образом. В 1922
году он писал: "Никто теперь не претендует понимать Пушкина, все
бросились к работе и изучению его; все же "понимания" считают
себя предварительными".
Слова Пумпянского становятся понятными, если учесть, что, как
писал С.Г.Бочаров, "путь русской мысли о Пушкине за полтора
столетия был таков, что научному изучению (которое неизбежно
становится изучением "по частям") предшествовал ряд творческих
высказываний, проникнутых интуицией целого. Это высказывания
писателей от Гоголя до Цветаевой и новых русских философов от
Соловьева до Франка... Понятно, чем отличались высказывания
творцов от будущего пушкиноведения, -- своей субъективной
свободой, не связанной обязанностью быть научно объективными",
становление же литературоведческой науки требовало как раз
точности и объективности. Постоянное чередование двух этих
традиций, попеременное господство то научного исследования, то
импрессионистского высказывания характерно для всей литературы о
Пушкине. Тот же Пумпянский, называя пушкинистский импрессионизм
М.О.Гершензона примером "предварительного понимания" Пушкина,
мечтал о пушкиноведении, в котором будет снято противоречие между
философским пониманием и филологическим изучением, и прообразом
его считал статью Вячеслава Иванова о "Цыганах". Но утопия такого
филологически-философского пушкиноведения не осуществилась, и в
дальнейшем пушкинистика не пошла ни путем Гершензона, ни тем
более Вячеслава Иванова.

|
В 1920-е годы складывается сугубо научный подход к изучению
творчества Пушкина. В 1925 году один из величайших наших
пушкинистов Борис Викторович Томашевский подводил итог: "Пора
вдвинуть Пушкина в исторический процесс и изучать его так же, как
и всякого рядового деятеля культуры... В общем для литературы
последних лет характерен сдвиг от "абсолютного" Пушкина к
сравнительно-историческому его изучению... Момент исторический
выступает на первый план, момент безотносительно эстетический
уступает ему свое место". Принципу целостного знания Гершензона
Томашевский противопоставил принцип историко-литературного
изучения, что означало прежде всего утрату того "абсолютного"
статуса, какой Пушкин имел в традиции вольной критики.
Изучение Пушкина всегда отражало важнейшие научные течения своего
времени. В первую очередь это касается публикации текстов поэта.
Подготовка академического собрания его сочинений в свое время
послужила опорой для создания особой отрасли современного
литературоведения -- текстологии как науки об истории текста, о
предварительном -- до публикации -- изучении рукописей и
черновиков писателя, а главное -- о выборе варианта, наиболее
адекватного авторскому самовыражению. Здесь мало собрать все, что
автор опубликовал при жизни, хотя прижизненные издания имеют
первостепенное значение для текстолога; мало понимать почерк и
разбираться в многочисленных исправлениях и зачеркиваниях
черновиков. Перед изданием надо определить, не было ли чужого
вмешательства в авторский текст, не искажен ли он цензурой, не
сам ли писатель, опасаясь ее, переделал свой первоначальный
вариант, значительно отойдя от более смелого замысла. Перед
текстологом всегда стоит проблема выбора, и решение в
значительной мере определяется его опытом, знаниями, вкусом,
умением проникнуть в творческую лабораторию поэта, интуицией.
Приведем один пример. Сергей Михайлович Бонди, чья книга
"Черновики Пушкина" является великолепными записками текстолога,
вспоминает, как он долго не мог разобрать последнего слова в
черновике неоконченного стихотворения Пушкина о спуске военного
корабля:
Ликует русский флот -- широкая Нева
Без ветра, в ясный день глубоко взволновалась,
Широкая волна плеснула...
И когда при случайной встрече с Томашевским Бонди прочитал тому
по памяти этот отрывок, внимательно слушавший "давнишний
петербуржец" Томашевский, не знавший этого черновика, "тотчас
закончил: ...в острова" ("Широкая волна плеснула в острова), что
и подтвердилось позднее по рукописи.
Академическое собрание сочинений Пушкина послужило школой, откуда
вышли крупнейшие текстологи, занимавшиеся позднее не только
Пушкиным, но использовавшие этот опыт и при других публикациях:
не только уже упомянутые Б.В.Томашевский и С.М.Бонди, но и
Юлиан Григорьевич Оксман, и Татьяна Григорьевна Цявловская, и
целый ряд других. Без опыта Пушкина не было бы позднейших
академических изданий Гоголя, Достоевского, Некрасова,
Белинского, не было бы великолепно подготовленных томов
"Библиотеки поэта" и "Литературного наследства"...
До сих пор занятия пушкинской текстологией, в основе которой
лежат прижизненные издания и рукописи поэта, были возможны лишь
там, где хранились эти раритеты -- в центральных библиотеках или
Пушкинском доме, куда передается все, написанное рукой Пушкина.
Однако теперь, с осуществлением уникального факсимильного издания
рукописей Пушкина, в организации и финансировании которого принял
участие английский принц Чарльз, подобная работа возможна и у
нас: первые четыре тома были присланы издателями в библиотеку
Сибирского отделения РАН два года назад, а в июне этого года
должны быть доставлены и следующие четыре тома.
Пушкин в последние десятилетия в значительной степени
стимулировал вообще широкое историческое исследование русского
общества конца XVIII--XIX вв. Даже в неблагоприятные для
исследователей времена благодаря официальному признанию его
главной святыней России имя Пушкина позволяло обратиться к
исследованию биографий и деятельности многих фигур русской
истории первой половины XIX столетия, имена которых были одиозны
для официальной историографии как "непрогрессивные",
консервативные и т.п. деятели. Вспомним хотя бы работу Натана
Яковлевича Эйдельмана о Дубельте, да и другие его работы, которые
он, как правило, опробовал у нас в городке, проверяя на
многочисленных своих слушателях -- этот самый большой зал Дома
ученых всегда был полнехонек! -- новые идеи, новые находки, новые
наблюдения задолго до их выхода из печати.
Лекции Эйдельмана -- и не только в новосибирском Академгородке,
но и в Иркутске, и в Чите, и в других городах --
свидетельствовали о широчайшем интересе интеллигентного читателя
и слушателя прежде всего к истории -- не школярской, а живой,
наполненной полнокровными и разнообразными людьми, среди которых
Пушкин занимал одно из важнейших мест. Интерес к Пушкину и --
через него -- к его современникам воспитывал у читателей чувство
истории, понимание исторического подхода -- того свойства, без
которого нет подлинного гуманитарного знания. При этом масса
людей, не гуманитариев по образованию, занявшись Пушкиным и его
окружением из любви к поэту, обогатили нашу науку новыми
исследованиями.
Одной из важнейших проблем современного литературоведения,
решение которой невозможно без обращения к Пушкину, является
исследование истории сюжетов (фабул) русской литературы как
одного из аспектов изучения литературной традиции. Первый в
отечественной науке опыт создания словаря сюжетов и мотивов
русской литературы, над которым в настоящее время работают
литературоведы новосибирского Института филологии СО РАН, уже
сейчас показывает, что именно сюжет в первую очередь является
связующим звеном между разными эпохами развития литературы, и
история сюжетов может быть создана также, как уже существующие
истории жанров или литературных направлений. Вместе с тем для
каждой эпохи характерен свой тип отношения к сюжетности и
фабульный репертуар.
В этом ряду Пушкин занимает совершенно особое место. Чтобы понять
это, надо вспомнить, что всего за сто лет до его рождения в
русской литературе все еще продолжается долгий период прощания со
средневековым типом литературы. Именно тогда русская литература,
ранее в своих международных связях ориентированная почти
исключительно на православный мир -- на Византию и южных славян,
открывает окно западным веяниям и в течение XVIII века осваивает
важнейшие достижения европейских литератур. В первую очередь
приходят новые литературные сюжеты, невозможные в русском
средневековье -- переводы и пересказы западных романов, повестей,
новелл, часто вообще без имени автора.
Освоение новых сюжетов, естественно, происходит стихийно. И
только у Пушкина мы вдруг находим своеобразные "планы" подобной
работы, "списки" сюжетов, над которыми он собирается работать:
для "Повестей Белкина", для маленьких трагедий. Причем в
последнем списке из 12 названий Пушкин осуществил только три,
некоторые подарил знакомым: Скупой; Ромул и Рем; Моцарт и
Сальери; Дон Жуан; Иисус; Беральд Савойский; Павел I; Влюбленный
бес; Димитрий и Марина; Курбский. Почти все эти названия, как
видим, представляют так называемые мировые сюжеты, и почти все
они в русской литературе до Пушкина отсутствовали.
Несомненно, что выбор этот не случаен. Здесь для Пушкина важны
два момента: во-первых, обогащение русской литературы
неизвестными ей сюжетами (тогда же этим занимаются и его
современники Сомов, Лажечников), во-вторых, как отмечал один из
лучших современных пушкинистов В.Э. Вацуро, переоценка им
литературной традиции и традиционных характеров. Знаменитое
высказывание Пушкина о Шекспире ("Отелло от природы не ревнив --
напротив: он доверчив") помогает понять его принципы изображения
человека в маленьких трагедиях: по сути дела, скупой рыцарь не
скуп, а властолюбив; Сальери не завистлив, а предан искусству --
так, как он его понимает; Дон Гуан погибает не как обольститель,
а как идеальный герой с именем любимой на устах.
"Многосторонность" человеческого характера у Пушкина оказывается
почти парадоксальной, но чтобы ее показать, ему были необходимы
традиционные характеры, ставшие каноническими типы "скупого",
"завистника", "обольстителя".
Сюжеты Повестей Белкина также широко известны и распространены в
современной Пушкину русской и переводной литературе, но он явно
испытывает их возможности, парадоксально изменяя традиционные
концовки. Это не единственный его опыт подобного рода: вспомним
хотя бы пушкинскую заметку о "Графе Нулине" ("Перечитывая
"Лукрецию", довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б
Лукреции пришло в голову дать пощечину Тарквинию?"), где указаны
и источник фабулы (поэма Шекспира), и пути ее изменения, и
осознанный характер переделки.
Некоторые сюжеты, характерные для русской литературы XIX века,
впервые введены в нее именно Пушкиным. Среди них -- "усадебный
сюжет", организованный оппозицией Петербурга и сельской усадьбы
(впервые в "Евгении Онегине"); "ограбление бедняка, маленького
человека" (впервые в "Станционном смотрителе");
"Колдун--предатель" (впервые в "Полтаве" -- линия Мазепы и
очарованной им Марии); "любовь среди народной войны"
("Капитанская дочка"). Все эти сюжеты в дальнейшем прошли через
полемическое освоение Гоголем, причем фабулы Пушкина всемирны,
Гоголя -- национальны и в большей степени мифологичны. Вся
русская литература XIX в дальнейшем осваивала и продолжала сюжеты
Пушкина (Толстой, Тургенев, Достоевский, ближе к Гоголю --
Писемский и Гончаров), и напряжение спало лишь с творчеством
Чехова, который возрождал рационалистический гуманизм Пушкина при
новом типе сюжетности и с долей трагического скепсиса.
Действительно: начатая Пушкиным в "Станционном смотрителе" тема
"маленького человека", бедного чиновника наполняет, как мы знаем,
всю русскую литературу; следуя через "Медный всадник" и
гоголевскую "Шинель" к "Бедным людям" и другим произведениям
Достоевского, к Лескову, но тема эта умирает у Чехова. Чеховская
"Смерть чиновника" -- это и смерть традиции, поскольку после
выхода рассказа Чехова жалеть бедных чиновников стало невозможно.
Стремление Пушкина к эксперименту, к постоянному поиску нового
приводит к противоречивости его высказываний. Мы уже говорили,
что каждый читатель и исследователь видит в Пушкине свое -- часто
прямо противоположное -- и доказывает свою правоту Пушкиным.
Точнее было бы сказать, что Пушкин сам постоянно спорит с собой,
и не просто спорит, а старается увидеть мир с нескольких точек
зрения одновременно, создавая ни у кого более не встречающийся
эффект стереоскопического зрения.
Типичный пример этому -- пушкинские "Подражания Корану", в
примечании к которым поэт писал: "Нечестивые, пишет Магомет...,
думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен. Мнение
сих нечестивых, конечно, справедливо; но, несмотря на сие, многие
нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим
образом. Здесь предлагается несколько вольных подражаний...". При
ближайшем рассмотрении можно увидеть, что здесь выражено сразу
несколько точек зрения: во-первых, в примечание включены
считавшиеся подлинными слова легендарного пророка об отношении к
Корану "нечестивых", т.е. не магометан, скорее всего европейцев;
во-вторых -- ироническая реплика европейски просвещенной
личности (кого--то из нечестивых) о приведенном мнении Магомета;
наконец, объяснение уже русским поэтом своего труда ("несколько
вольных подражаний"). В трех фразах выражено по крайней мере три
точки зрения, и все они начинают активно взаимодействовать в
художественном целом пушкинского цикла, где пророк обращен, с
одной стороны, к небесной жизни, с другой -- к земной правде,
причем систему отношений "аллах -- пророк" Пушкин еще усложнил,
введя третье лицо, человека. В результате внутренняя
напряженность и конфликтность Подражаний Корану определяется
триадой отношений: аллах -- пророк -- человек.
Любое прочтение пушкинских "Подражаний Корану" как бы напрямую
зависит от добровольного выбора читателем той или иной позиции.
Можно, например, отождествить образ Мухаммеда с человеком,
стремящимся к высшему познанию, ислам -- с любыми философскими
или религиозными направлениями, аллаха -- с любой формой
догматики. Однако читатель вынужден будет признать ограниченность
любой из представленных точек зрения из-за неустранимого
присутствия в цикле другого "я". Как произведение большой
лирической формы цикл "Подражаний Корану" в конце концов
стремится представить все, что читатель включает в свой
собственный опыт, познание и ожидание, иными словами все, что
составляет как бы основу эстетических связей между автором,
героем и читателем.
Взгляд на мир, нашедший выражение в "Подражании Корану", менее
всего может быть соотнесен с современным пониманием пушкинского
христианства.
В последние годы в российском литературоведении происходит
возвращение к проблемам, которые в течение нескольких десятилетий
были закрыты для исследователей чисто по идеологическим мотивам.
Одна из них -- "Пушкин и православие". Уже появилось множество
работ -- докладов, статей, кандидатских и даже докторских
диссертаций -- трактующих разные аспекты этой темы, причем в
подавляющем большинстве из них авторы, из самых лучших
побуждений, стремятся показать поэта последовательным
христианином, закрывая глаза на другие стороны его творчества
(как будто и не он писал "Гаврилиаду"), а в некоторых случаях
критикуют -- за отступления от ортодоксального православия. Так,
тончайшее стихотворение Пушкина -- "Дар напрасный, дар случайный,
жизнь, зачем ты мне дана" -- может быть представлено мало
значащим и вредным произведением по сравнению с критическим и
тоже стихотворным ответом на него архимандрита Фотия -- плохого
поэта, но более последовательного христианина. Однако и при
критике, и при апологии пушкинского православия проявляется
вульгарный идеологизм, при котором совершенно игнорируется
художественная сторона пушкинского текста, создающая многослойный
план подтекста и ассоциаций, забывается тот факт, что
анализируются слова поэта, а не богослова -- а любая литература
всегда шире любой конфессии. Кроме того, в те же десятилетия
обязательной марксистской идеологии наша гуманитарная наука
полностью утратила традиции научного богословия, на рубеже веков
стоявшего очень высоко; тогда, как известно, обучение и служба в
духовной академии не мешала ее профессорам -- таким, как В.О.Ключевский,
Н.Ф.Каптерев, Д.И.Абрамович -- быть подлинными
источниковедами и не бояться критически подходить к столь важным
для православия текстам, как жития святых, сочинения патриарха
Никона и т.п. В наше же время, к сожалению, пока сильна позиция
неофитов, стремящихся быть "святее папы" и готовых ввести новую
духовную цензуру -- вплоть до предложения запретить "Мастера и
Маргариту" М.А.Булгакова.
Духовный масштаб новаторства пушкинского творчества столь велик,
что едва ли может быть очерчен кругом одних лишь
литературоведческих понятий (новаторство стиха, стиля, жанра,
сюжета и т.п.). Мы можем без каких-либо натяжек говорить об
энциклопедизме Пушкина -- он был не только поэтом, но и
ученым-историком, а также интересовался точными науками. Мало
кто знает, что он успел в 4-м номере своего журнала
"Современник" за 1836 год поместить наряду со стихами Тютчева,
присланными из Германии, одно из русских сочинений по теории
относительности (естественно, ньютоновой) -- статью князя
Козловского "О надежде". Пушкинский отрывок, строки из которого
знакомы нам по эпиграфу к телевизионной передаче "Очевидное --
невероятное", дает чеканную формулу всего того, что помогает
любому ученому, испытавшему радость открытия:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Пушкин вошел в русскую культуру субъектом принципиально нового,
небывалого сознания, опережавшего духовные искания его
соотечественников на многие десятилетия. В знаменитом гоголевском
изречении, что Пушкин -- "это русский человек в его развитии, в
каком он, может быть, явится через двести лет" -- при всей
гиперболичности этих слов исторической точности оказалось гораздо
больше, чем энтузиазма.
Автор одной забытой ныне работы 1924 года, М.Столяров, писал:
"Лермонтов и Достоевский выдали нам Пушкина: дали нам ключ к
нему. Центральная проблема поставленная обоими, стоит в
средоточии и пушкинского творчества: проблема уединенного
сознания, сумрачно замкнутого круга уединенной мысли".
На рубеже XVIII--XIX веков слово уединение становится одним из
наиболее частотных в русской поэзии, свидетельствуя о
тектоническом сдвиге в сфере культурных приоритетов и духовных
ценностей. На смену авторитарной художественной культуре
завершившегося столетия идет культура уединенного сознания,
получающая со временем имя романтизма и осуществляющая
эстетическую легализацию внутренней обособленности
индивидуального человеческого "я".
В раннем творчестве Пушкина мотив уединения встречается довольно
часто ("в уединенье величавом" -- "Деревня", послание Орлову:
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов),
но для него всегда это лишь одна из красок в многоцветной
палитре. Когда же строй уединенного сознания, "наполеонический"
дух, питавший как западноевропейский, так и русский романтизм,
начинает укореняться на русской почве -- в пушкинском творчестве
уже зреет преодоление этой уединенности, все еще составляющее
остро актуальную проблему и современной духовной культуры. Это
преодоление составляет один из аспектов художественного
содержания "Евгения Онегина", где объектом художественного
наблюдения является "современный человек"
С его безнравственной душой
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданный безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
Субъект уединенного сознания -- главный объект пушкинской иронии:
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
Предмет достойный: ничего
Любезней, верно, нет его.
Ирония становится особенно едкой, когда автор предлагает нам
осознать парадоксальную массовость уединенности:
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами -- себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.
В нашем столетии духовная уединенность, внутренняя маргинальность
личности становится массовым явлением. Массовая культура
современных цивилизованных стран является по преимуществу
культурой сознания уединенного, и лишь в странах ислама --
авторитарного. Однако, с точки зрения русской философии
"соборности" и "всеединства", "индивидуалистическое разделение
людей -- как писал Вячеслав Иванов -- только переходное состояние
человечества".
Истинная "соборность", как она понималась Владимиром Соловьевым,
предполагает умение помыслить о себе как бы во втором лице, как о
"ты" для иного, как о "другом" среди "других". Эта внутренняя
солидарность -- в противовес авторитарности -- является
определяющим моментом исторически наиболее молодого и по этой
причине наименее развитого конвергентного сознания,
эксплицированного, в частности, такими мыслителями ХХ века, как
В.И.Вернадский, М.М.Бахтин, А.А.Ухтомский, М.Бубер, А.Швейцер и другие.
Конвергентное сознание, на наш взгляд, близко к тому, что русский
философ Константин Леонтьев называл состоянием
реально-эстетической гармонии и обосновывал на примере из
Пушкина ("Путешествие в Арзрум"). Пушкин, по Леонтьеву, не похож
на "розового" гармонизатора земных противоречий и скучного
всеобщего примирителя. Пушкинская модель гармонии -- не чаемая
гармония неведомого будущего, а трагическая гармония
"неисправимого", но трагически прекрасного -- при правильном
эстетическом воззрении на него -- настоящего, не утопическая, но
реально-эстетическая, гераклитова гармония неизбывного
противостояния и эстетического сопряжения противоположностей;
контрастная живописная картина как теоретическая модель
неисправимого в принципе, но в этой неисправимости эстетически
завершенного мира. Выводя свою формулу реально-эстетической
гармонии, Леонтьев выставлял ее парадигмой Пушкина.
Совершенно особое положение Пушкина в русской литературе и
культуре в целом объясняется, на наш взгляд, именно его
первородством для России как субъекта развитого конвергентного
сознания, впечатляюще проявившего себя не только в проблематике,
но и в поэтике пушкинских творений.
...Всю нашу сознательную жизнь, с первых школьных лет, а то и с
детского сада, имя Пушкина сопровождает каждого из нас, и у
каждого сложился свой образ поэта, неважно -- героический или
анекдотический, и образы эти никогда не совпадут с
представлениями ученых пушкинистов. Пушкина любят не за то, что
он "создал национальный русский язык" или "заложил основы
новейшей русской литературы". Его любят за то, что он --
писатель, которого читают и дети, и убеленные сединами взрослые,
писатель, у которого любой найдет ответы на свои вопросы,
писатель противоречивый и многогранный, разносторонний и
неповторимый, короче -- за то, что он -- Пушкин!
Завершая наше выступление, хочется повторить слова о Пушкине
замечательного нашего историка Василия Осиповича Ключевского: "О
Пушкине всегда хочется сказать много, наговоришь много, а когда
скажешь, то поймешь, что не сказал ничего".
стр.
|